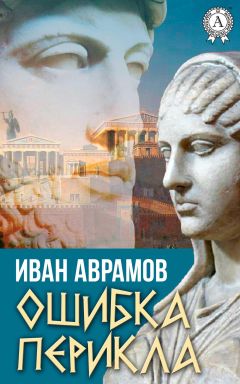В одно время, помню, я ходил с маленькой книжкой, как с томиком стихов, перечитывая понемножку отдельные повести, из которых соткан роман Лермонтова “Герой нашего времени”, настолько увлекал меня язык. “Никто еще не писал у нас такою правильною, прекрасною и благоуханною прозою”, - сказал Гоголь, прочитав роман Лермонтова, опубликованный в 1840 году, весь в пылу работы над “Мертвыми душами”, законченными к осени 1841 года.
“В прозе, как и в своем поэтическом творчестве, Лермонтов шел от бурной романтики к высокому реализму”, - отмечает И.Л.Андроников. А что же это такое “высокий реализм”? У Оноре де Бальзака — “высокий реализм”? По сравнению с натурализмом Эмиля Золя, может быть. А у Гоголя?
Жанр “Мертвых душ” автор определяет “поэма”, между тем как персонажи, начиная с главного героя Чичикова, вряд ли хоть сколько-нибудь поэтичны сами по себе в жизни, но повествование носит такой характер, что, независимо от персонажей, какие они есть, можно сказать, независимо от реализма, перед нами разворачивается, как небо и обширная земля, жизнь во всей ее шири и поэзии, как в “Илиаде” Гомера, пусть в ней действуют и боги, мир и бытие как эстетический феномен предстают в вечности.
Какая тут действительность и критика ее? Нет, тут все это есть, весь узнаваемый, грустный, горестный материал русской жизни, но на этом материале Гоголь творит собственный миф о России, как ранее воспользовался широко фольклором, снами и поверьями народа в жизни его в веках. Если бы было иначе, то какой же интерес заключал в себе роман с поездками Чичикова с его аферой по покупке “мертвых душ” по деревенькам Маниловых, Ноздревых и Коробочек? Критический — для своего времени, может быть. Но почему же так же, как роман Лермонтова, я время от времени в ходе жизни с увлечением перечитывал “Мертвые души”? За “высокий реализм”? Нет, в них я находил то же вдохновение и поэзию жизни, то горестной, то веселой, как в классической прозе стран Востока и Запада, в созданиях высоких ренессансных эпох. Вот откуда это определение “высокий”. А в понятиях “высокий классицизм” или “высокий реализм” — это определение вряд ли уместно, если подразумевается целое направление, которое само не поднимает создание таланта, тем более работу посредственности, до “высокого классицизма” или “высокого реализма”. Это высокое — достижение гения, а не направления, к тому же не в обычное время, а в особые периоды развития искусства, как правило, в ренессансные эпохи. Стало быть, речь идет о ренессансном классицизме или ренессансном реализме, что лучше называть высокой классикой или ренессансной классикой.
Вообще реализм нельзя считать направлением, это одна из тенденций, что проявляется с различной интенсивностью в развитии искусства в разные времена, в разных видах искусства, не становясь однако ни стилем, ни миросозерцанием, как классицизм, барокко или романтизм в той или иной степени.
Роман в новой русской литературе развивается так же стремительно, как и другие жанры и виды искусства. Если Тургенев следует традиции русской повести, воссоздавая русскую жизнь в ее быстрых переменах в 50-60-е годы XIX века, то Гончаров в его знаменитом романе “Обломов” как бы останавливает время, как длится долго летний день в деревне, с утра светлый и чистый, на небе ни облачка, река бежит, поля зеленеют, сосновый бор сияет позолотой, звонко переливается жаворонок, штурмуя небесную тверь, но все горячее солнце, свет слепит глаза, жара, лень, — вот откуда лень Обломова, отличительная черта героя, он стихов не пишет, как Державин, зато все изобилие яств, что радовали вдохновенный взор поэта, у счастливого ленивца вызывают ту же лень, — а день все длится без края и конца.
В романах Тургенева и Гончарова предстает широкая панорама русской жизни в помещичьих усадьбах, а с нею и природа, — в том есть новизна, к которой мы привыкли. Между тем это ведь открытие России, преображенной реформами Петра Великого, когда уклад жизни установился и как бы от века, но уже приметны и черты запустения и упадка дворянских гнезд.
К 1861 году, к отмене крепостного права, уже наметился рубеж конца дворянского периода развития русской истории и культуры и начала нового, в котором на первый план выходит разночинная интеллигенция и купечество, вызванные к жизни еще преобразованиями Петра I, но подавленные особыми правами дворянства и крепостничеством. Умонастроение эпохи запечатлел в своих романах Тургенев — “Рудин” (1855), “Дворянское гнездо” (1858), “Отцы и дети” (1861), с невольной ностальгией и с доверием к новым веяниям в русской жизни.
Между тем из каторги и ссылки начали возвращаться декабристы, из поколения героев войны 12 года и первых революционеров. Задумав роман о декабристе, вернувшемся из Сибири спустя четверть века, Лев Толстой тоже невольно оглянулся назад, в время юности и молодости своего героя, в эпоху Отечественной войны 12 года, и она предстала его взору величественной, достойной воспроизведения не просто в романе, а в создании, жанр которого он затрудняется определить, но с ориентацией, как Гоголь в работе над “Мертвыми душами”, на “Илиаду” и “Одиссею” Гомера. Что бы это значило? Русский роман только-только зарождается, но писатели, вместо освоения европейских форм романа, обращаются непосредственно к Гомеру.
С 1863 по 1869 год было создано в России одно из величайших произведений искусства в Новое время, спустя всего три десятилетия, как вышли первые повести новой русской литературы. Мне не нужно разбирать здесь ни содержание, ни идею “Войны и мира”. Мне достаточно обозначить то, что я делаю в этом исследовании, — ренессансный характер явлений русской жизни и русского искусства. Вот как сам граф Толстой (графство у писателя от Петра I через того самого Толстого, который произносит речь о своих странствиях у статуи Венеры в Летнем саду) определяет свое эстетическое кредо в период работы над “Войной и миром”: “Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях. Ежели бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю кажущееся мне верным воззрение на все социальные вопросы, я бы не посвятил и двух часов труда на такой роман, но ежели бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать теперешние дети лет через 20 и будут над ним плакать и смеяться и полюблять жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы”.
Это и есть самая отличительная черта эстетики Ренессанса, начиная с празднеств царя Петра. Кажется, никто специально не изучал эстетику Льва Толстого и именно в период создания “Войны и мира”, на основе текста романа, жанр которого затрудняется определить сам автор; а ведь стало бы ясно, что эстетика русского писателя близка к эстетике Гомера и к эстетике Возрождения в Европе в их существенных чертах, и, естественно, к эстетике Кипренского и Карла Брюллова, к эстетике Пушкина, для которого, как и для греков, действительность была абсолютной эстетической действительностью.
“Любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях” — вот чему учил Гомер Элладу, и Лев Толстой, открыв величественную эпоху в истории России, последовал за Гомером, как Пушкин за античными лириками, и он это сознавал, он изучал древнегреческий язык, чтобы читать Гомера в подлиннике, и настолько проникся его поэмами, что сама стилистика, длинные периоды романа-эпоса отдают гекзаметром и длинными периодами “Илиады”. Писатель протестовал против обозначения жанра его создания как романа, поэмы или исторической хроники, при этом он подчеркивал, что русская литература “со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного”.
“Приобщая” русских писателей к европейским литературным направлениям и жанрам, исследователи не заметили этого факта, который ныне находит свое объяснение. Упоминают, что в иных случаях Лев Толстой сравнивал свое создание с “Илиадой” и “Одиссеей”, мол, указывал на его близость к народно-героической эпопее. Вряд ли Лев Толстой назвал “Войну и мир” и эпопеей, когда он имел в виду миф, изначальную форму бытия и искусства, как у Гомера. Именно поэтому свободное, всеобъемлющее повествование о русской жизни в известный исторический период явилось уникальным и величайшим созданием мировой литературы последних двух столетий. Для этого мало гения, а необходимы еще исторические предпосылки; говорят о патриархальности быта и жизни в России, будто эта сторона действительности отразилась в “Войне и мире”, как в романе Гончарова “Обломов”, нет, то, что Лев Толстой обозначает как “мысль народную”, это коллективистское миросозерцание русского народа, которое сказалось в героическом сопротивлении нашествию наполеоновской армии, сил почти всей Европы как варваров, в единении сословий и власти перед внешней угрозой. Именно такой момент в русской истории как бы повторяет события древности, запечатленные в “Илиаде” как миф. И эти исторические предпосылки, несущие в себе возможность создания народно-героической эпопеи, в России к тому же пришлись на эпоху Возрождения, какую она переживала с начала преобразований Петра Великого, с естественным и необходимым обращением к классической древности. Вот почему — теперь это ясно — “Война и мир” предстает не просто как уникальное и величайшее произведение XIX века, но именно как ренессансное произведение, созданное в точности по эстетике Возрождения в ее самых существенных чертах и свойствах, что обнаруживается уже в одах Ломоносова и Державина, в портретах Рокотова, Левицкого, Боровиковского. Лирика русских поэтов первой половины XIX века, портреты Кипренского, живопись Карла Брюллова, музыка Глинки — и события всеевропейской истории, — все отразилось в создании Льва Толстого, как в “Илиаде” мы узнаем классическую древность в ее истоках и в ее полном развитии.